
Александр Голубев: «Во времена князя Андрея слово не то чтобы многое значило — оно значило всё»
12.08.2025
В программе «Сериальная пауза» в Выборге представлен исторический сериал «Князь Андрей» о том, как князь Андрей Боголюбский меняет направление, выбранное его отцом для всей России. В главной роли — актер Александр Голубев. Он рассказал Ивану Кудрявцеву, ведущему специального выпуска «Индустрии кино» на фестивале «Окно в Европу», о том, как работал над образом Андрея Боголюбского, искусственным интеллектом.
— На какой странице этого сценария вы поняли, что очень хотите сыграть эту роль?
— А у нас честное интервью? Раз честное: уже на первой странице сценария, я понял, это – не моя роль. Я оценил масштаб и сразу всем сказал: все это здорово, но я не князь Андрей. А потом Давид Ткебучава сказал: «Саш, ну давай попробуем, может быть, все-таки...» Я согласился. Мы приехали на «Мосфильм», я оделся в героя. Была первая проба грима, и тут мне показалось, что да, при помощи всех цехов на площадке я, наверное, смогу стать князем.
— Кроме воодушевляющих слов режиссёра Давида, какие еще личностные качества помогли? Может быть, что-то от этого героя хотелось взять себе или что-то общее у вас с ним нашлось?
— Роль поманила, в первую очередь, безоговорочной верой других людей в то, что я на эту роль подхожу. Она позволяла мне что-то искать в своем герое, соединяться с ним и следовать по его шагам. Похожего на меня там, наверное, меньше, чем когда-либо. Попытка отзеркалить «я – персонаж» изначально была невозможной. Объясню почему. Фигура князя Андрея, с точки зрения исторических фактов и тем более того времени, невероятно масштабна. Его образ — сборная солянка, наш общий анализ на тему, каким он был человеком, со стальным или мягким характером, с чем он боролся? На площадке я понимал только одно: каждое слово, сказанное им, должно было выполняться. Сейчас можно написать смс, потом пройдет полчаса, ты можешь его изменить, можешь вообще стереть у всех. А тут — подозвал гонца, сказал ему: ну-ка, скачи туда, да будет так. И он ускакал, и как бы — всё, за сказанное слово тебе теперь отвечать. И это был первый момент, который я уловил. Слово не то чтобы много значило: оно значило всё. Тогда слов на ветер не бросали, и от этого те люди иначе себя вели, иначе трактовали чужие поступки.
— Когда готовились к роли, какие книги читали, какие фильмы смотрели, в какие музеи ходили?
— Хороший вопрос. Я собрал друзей, знакомых и педагогов и просто с ними муссировал отрезок времени, который снимали в тот момент. Необязательно он имел отношение к князю Андрею, скорее, к той эпохе вообще. Эта энергетическая информация оставалась со мной по итогу, и она мне очень помогла. В нужный момент на площадке что-то вспыхивало, и я думал: стоп, нет, так не может быть, не можешь ты с такой скоростью сейчас это сделать.
— А у нас честное интервью? Раз честное: уже на первой странице сценария, я понял, это – не моя роль. Я оценил масштаб и сразу всем сказал: все это здорово, но я не князь Андрей. А потом Давид Ткебучава сказал: «Саш, ну давай попробуем, может быть, все-таки...» Я согласился. Мы приехали на «Мосфильм», я оделся в героя. Была первая проба грима, и тут мне показалось, что да, при помощи всех цехов на площадке я, наверное, смогу стать князем.
— Кроме воодушевляющих слов режиссёра Давида, какие еще личностные качества помогли? Может быть, что-то от этого героя хотелось взять себе или что-то общее у вас с ним нашлось?
— Роль поманила, в первую очередь, безоговорочной верой других людей в то, что я на эту роль подхожу. Она позволяла мне что-то искать в своем герое, соединяться с ним и следовать по его шагам. Похожего на меня там, наверное, меньше, чем когда-либо. Попытка отзеркалить «я – персонаж» изначально была невозможной. Объясню почему. Фигура князя Андрея, с точки зрения исторических фактов и тем более того времени, невероятно масштабна. Его образ — сборная солянка, наш общий анализ на тему, каким он был человеком, со стальным или мягким характером, с чем он боролся? На площадке я понимал только одно: каждое слово, сказанное им, должно было выполняться. Сейчас можно написать смс, потом пройдет полчаса, ты можешь его изменить, можешь вообще стереть у всех. А тут — подозвал гонца, сказал ему: ну-ка, скачи туда, да будет так. И он ускакал, и как бы — всё, за сказанное слово тебе теперь отвечать. И это был первый момент, который я уловил. Слово не то чтобы много значило: оно значило всё. Тогда слов на ветер не бросали, и от этого те люди иначе себя вели, иначе трактовали чужие поступки.
— Когда готовились к роли, какие книги читали, какие фильмы смотрели, в какие музеи ходили?
— Хороший вопрос. Я собрал друзей, знакомых и педагогов и просто с ними муссировал отрезок времени, который снимали в тот момент. Необязательно он имел отношение к князю Андрею, скорее, к той эпохе вообще. Эта энергетическая информация оставалась со мной по итогу, и она мне очень помогла. В нужный момент на площадке что-то вспыхивало, и я думал: стоп, нет, так не может быть, не можешь ты с такой скоростью сейчас это сделать.
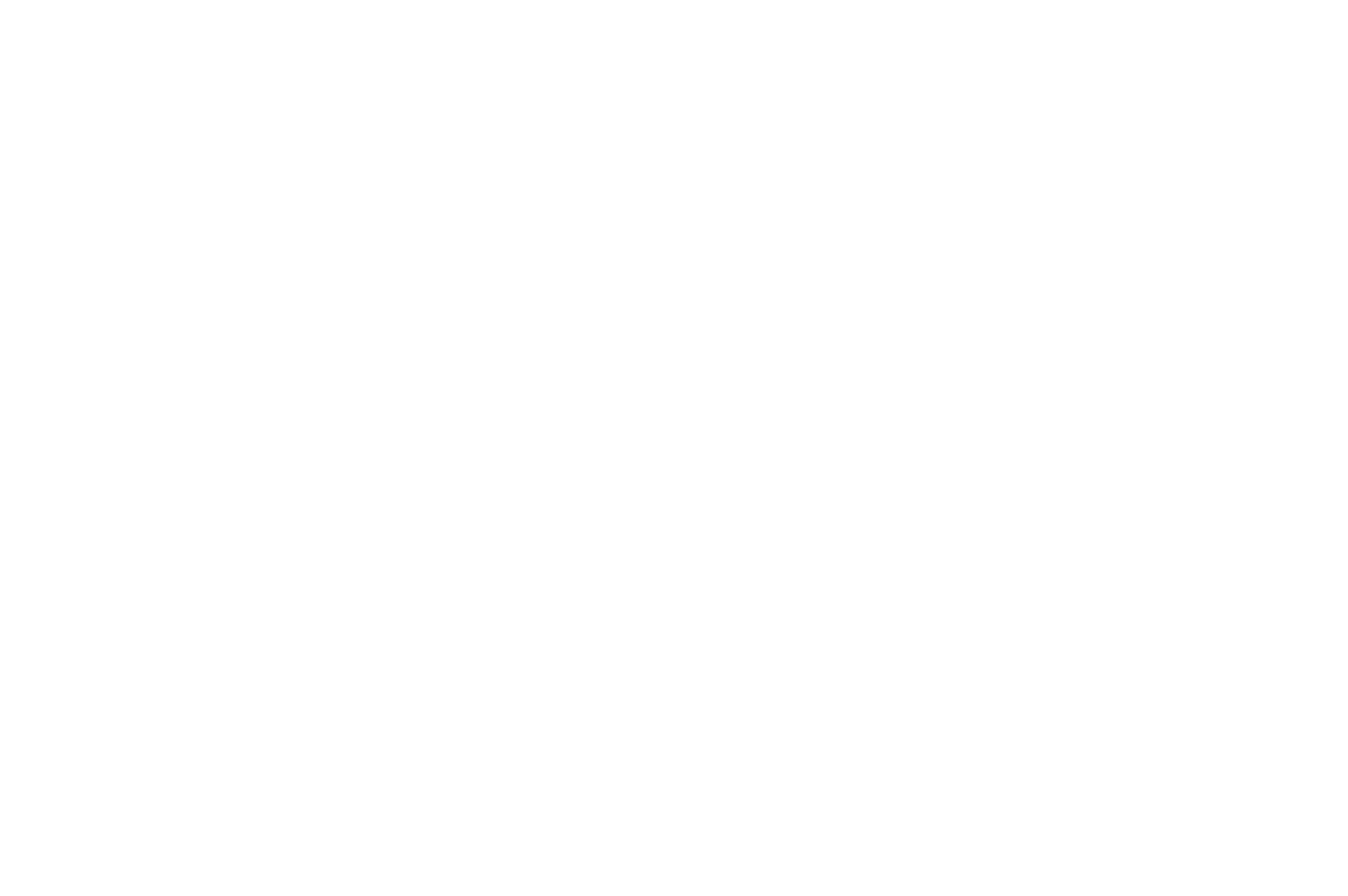
— Сейчас молодежь очень мало смотрит отечественные фильмы. Как нужно делать исторический проект, чтобы его захотели посмотреть современные школьники и студенты? И как показывать им наше старое кино?
— Во-первых, кино надо делать честно. Кино — дело вкуса. Кому-то оно может нравиться, кому-то нет. Нет каких-то стандартов, по которому снимается линейка спортивных или исторических фильмов. Как его делать, чтобы детям понравилось? Думаю, нужно потихоньку из лучшего выбирать и показывать. Потому что та философия, которая передается в игровой форме через кинематограф, иногда цепляет гораздо больше, чем любой другой вид искусства. Пройдет 30 лет, и молодой человек встанет перед выбором того или иного поступка, тогда он может вдруг вспомнить кино, которое он посмотрел в 13 лет в классе, и поменять свой выбор.
— Слоган нашего фестиваля — «Российское кино сегодня, прогноз на завтра». Какой прогноз российскому кинематографу вы можете дать сейчас?
— Раньше кино было без звука. И все наслаждались. Паровоз едет, люди что-то говорят, ничего не слышно, но все аплодируют. В зале гул и бардак. Потом появился звук. В зале стало нужно сидеть тихо, чтобы все слышали, что происходит. Зрители негодовали. Ушли из профессии люди, которые не смогли перестроиться. Мы сейчас с вами смотрим кино без звука, как что-то не ностальгическое, а исключительно музейное. Потом ушла пленка. Все вообще ахнули, это было не так давно. Я еще снимался на пленку, когда начинал, это все случилось при мне, моих друзьях, коллегах. Все опять стали говорить: уйдет профессия, кино исчезнет. Но я что-то этого не замечаю. Две этих перемены кинематограф не просто пережил, но взял в плюс. Так же и в случае с нейросетями, которые сейчас всех будоражат. Это будет просто изменением, дополнением к нашей скорости, рабочей и зрительской реальности. Не нужно этого бояться. Пока мы будем не соглашаться, оттягивать, работать по старинке, другие скажут: отлично, давайте мы попробуем, что может ИИ, и совместим. Вот когда они совместят, а мы еще нет, тогда надо бояться. Потому что люди, которые в свое время не испугались, уже будут в этой сфере профессионалами. Стоит, я думаю, относится к нейросетям как к спортивному инвентарю, который помогает спортсмену, а не мешает ему. А мы, творческие люди — тоже немножко спортсмены, режим у нас такой же сложный в смысле работы, подготовки к роли и многого другого.
Беседовал Иван Кудрявцев
— Во-первых, кино надо делать честно. Кино — дело вкуса. Кому-то оно может нравиться, кому-то нет. Нет каких-то стандартов, по которому снимается линейка спортивных или исторических фильмов. Как его делать, чтобы детям понравилось? Думаю, нужно потихоньку из лучшего выбирать и показывать. Потому что та философия, которая передается в игровой форме через кинематограф, иногда цепляет гораздо больше, чем любой другой вид искусства. Пройдет 30 лет, и молодой человек встанет перед выбором того или иного поступка, тогда он может вдруг вспомнить кино, которое он посмотрел в 13 лет в классе, и поменять свой выбор.
— Слоган нашего фестиваля — «Российское кино сегодня, прогноз на завтра». Какой прогноз российскому кинематографу вы можете дать сейчас?
— Раньше кино было без звука. И все наслаждались. Паровоз едет, люди что-то говорят, ничего не слышно, но все аплодируют. В зале гул и бардак. Потом появился звук. В зале стало нужно сидеть тихо, чтобы все слышали, что происходит. Зрители негодовали. Ушли из профессии люди, которые не смогли перестроиться. Мы сейчас с вами смотрим кино без звука, как что-то не ностальгическое, а исключительно музейное. Потом ушла пленка. Все вообще ахнули, это было не так давно. Я еще снимался на пленку, когда начинал, это все случилось при мне, моих друзьях, коллегах. Все опять стали говорить: уйдет профессия, кино исчезнет. Но я что-то этого не замечаю. Две этих перемены кинематограф не просто пережил, но взял в плюс. Так же и в случае с нейросетями, которые сейчас всех будоражат. Это будет просто изменением, дополнением к нашей скорости, рабочей и зрительской реальности. Не нужно этого бояться. Пока мы будем не соглашаться, оттягивать, работать по старинке, другие скажут: отлично, давайте мы попробуем, что может ИИ, и совместим. Вот когда они совместят, а мы еще нет, тогда надо бояться. Потому что люди, которые в свое время не испугались, уже будут в этой сфере профессионалами. Стоит, я думаю, относится к нейросетям как к спортивному инвентарю, который помогает спортсмену, а не мешает ему. А мы, творческие люди — тоже немножко спортсмены, режим у нас такой же сложный в смысле работы, подготовки к роли и многого другого.
Беседовал Иван Кудрявцев





